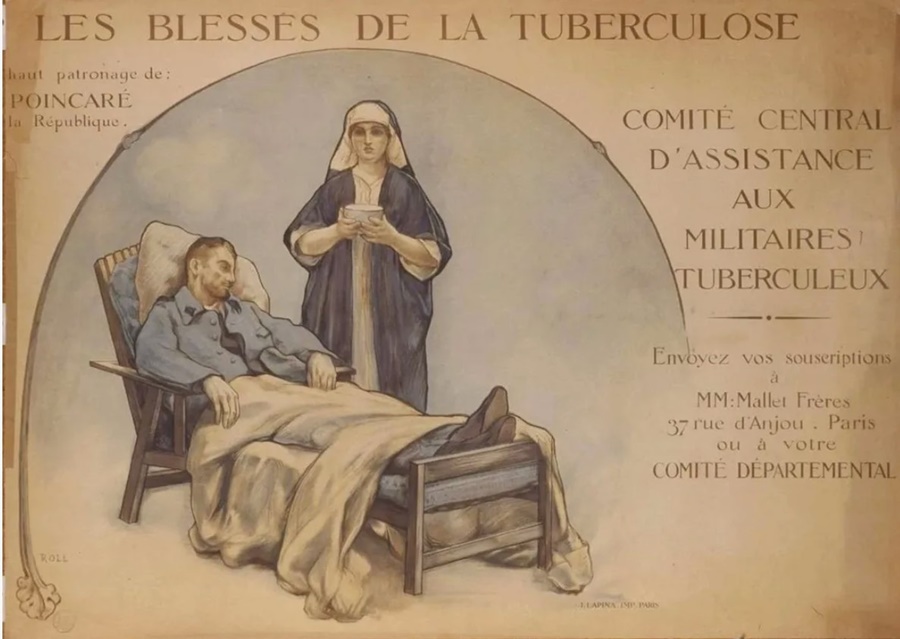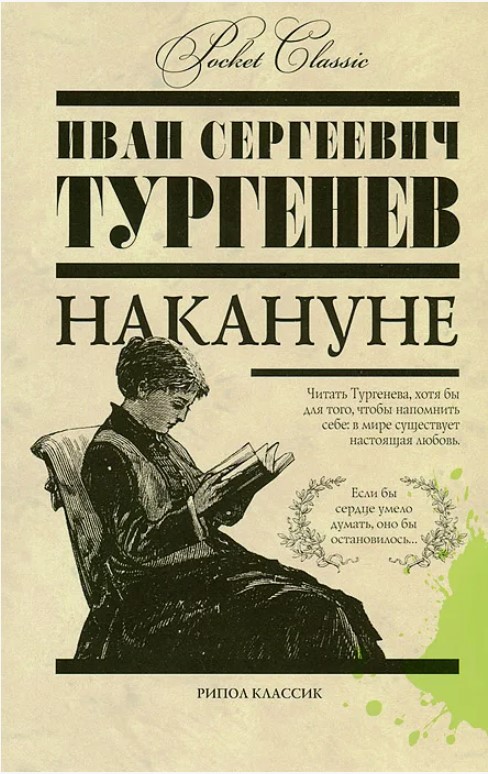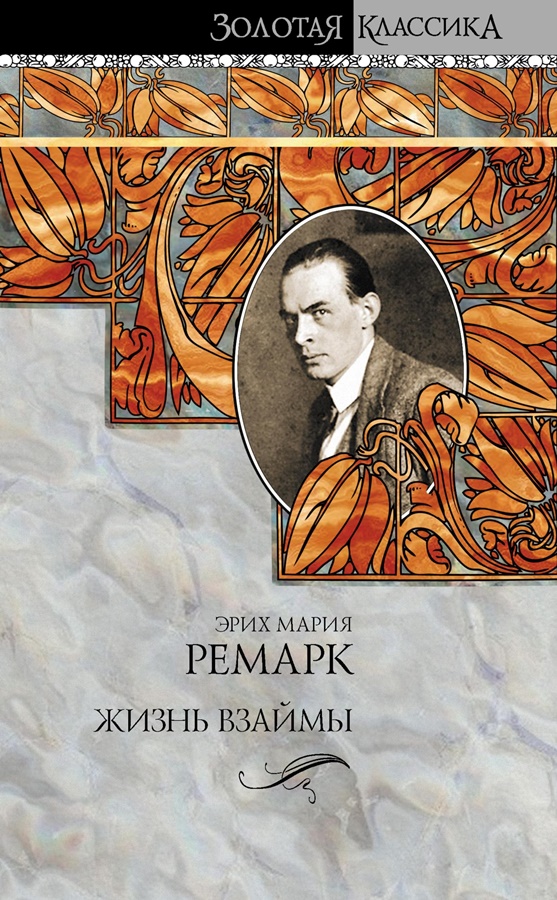- Адрес: Москва, Протопоповский пер., д.9
- Время работы: 08.00-18.00 кроме воскресенья. Последняя пятница - санитарный день
- E-Mail: info@rgbs.ru
«Благородная» болезнь позапрошлого века в художественной литературе
Обложка
– Да… Болгария! – пролепетала Анна Васильевна и подумала: «Боже мой, болгар, умирающий, голос как из бочки, глаза как лукошко, скелет скелетом, сюртук на нем с чужого плеча, желт как пупавка – и она его жена, она его любит… да это сон какой-то…»
Иван Тургенев «Накануне»
Обложка
В 1882 году немецкий микробиолог и гигиенист Роберт Кох выступил с лекцией «Этиология туберкулеза», на которой объявил о своем открытии возбудителя этой болезни. После окончания лекции наступила гробовая тишина – слушатели понимали, что только что стали свидетелями исторического события. В 1905 году за «исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза» Кох получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
До открытия Коха болезнь называлась чахоткой (от слова «чахнуть») и считалась болезнью людей особенно тонкой душевной организации. Писатели XIX века романтизировали ее образ, превратив в метафору декаданса – болезненной утонченности, чувствительности, фатализма и бессилия.
В XIX веке, до открытия Коха, чахотка не считалась постыдным заболеванием, следствием нищеты или обездоленности. Напротив, существовало убеждение, что ею болеют глубоко мыслящие, развитые и чувствительные люди. В какой-то момент болеть чахоткой стало модно. Быть может, причиной этому стала романтизация недуга в литературе. Ни одна болезнь не получила столь широкого отражения в художественной прозе, как туберкулез – особенно в XIX веке, в период самой сильной эпидемии заболевания. Главные герои многих произведений того периода страдают и погибают от чахотки. Больная туберкулезом барышня в те времена была, представьте себе, желанной невестой – тонка и изящна, бледна и задумчива, с очаровательным чахоточным румянцем и аристократическим блеском глаз. Дамы высшего света закапывали в глаза белладонну, чтобы получить вожделенный горящий чахоточный взгляд.
Длительное время полагали, будто болезнь легких вызывают моральные потрясения, ипохондрия, несчастная любовь. Авторы зачастую «заражали» своих персонажей именно этим заболеванием, чтобы подчеркнуть трагичность их судьбы. Это отразилось, например, в романе Александра Дюма-сына «Дама с камелиями», который лег в основу либретто оперы Джузеппе Верди «Травиата». Роман Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы», стал сюжетом оперы «Богема» Джакомо Пуччини. Героини этих произведений – Виолетта и Мими – страдают от неразделенной любви и заболевают туберкулезом.
Обложка
Эрих Мария Ремарк в романе «Жизнь взаймы» рассказывает о санатории для больных туберкулезом. В центре сюжета – любовь автогонщика Клерфэ и больной Лилиан, для которой каждый день – отсрочка перед встречей с неизбежностью. В романе «Три товарища» Ремарк также затрагивает тему чахотки: «Пат лежала в постели с окровавленной грудью и судорожно сжатыми пальцами. Изо рта у нее еще шла кровь… Ее дыхание стало хриплым, потом она резко привстала, и кровь хлынула струей. Она дышала часто. В глазах было нечеловеческое страдание, она задыхалась и кашляла, истекая кровью».
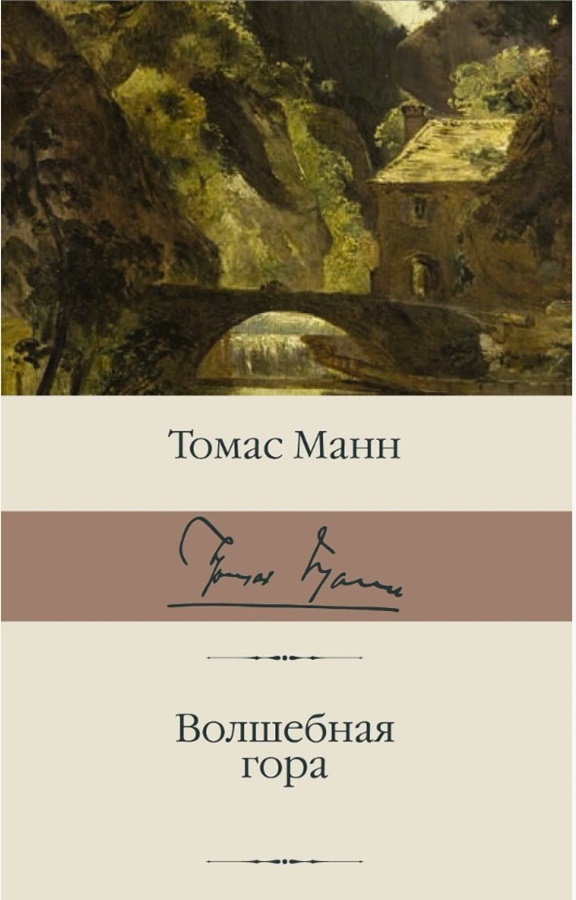
Обложка
Посвящен чахотке и роман Томаса Манна «Волшебная гора» – история о пациентах дорогого туберкулезного санатория в Альпах, где время проходит незаметно, а жизнь и смерть утрачивают значимость и смысл.
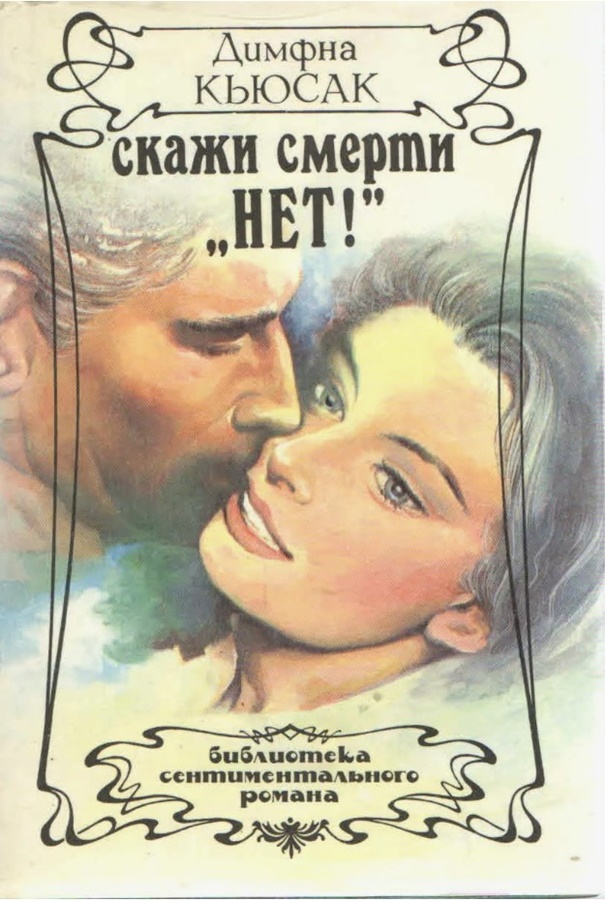
Обложка
Роман австралийской писательницы Димфны Кьюсак «Скажи смерти „нет!“» – о любви смертельно больной девушки и парня, вернувшегося с войны, об их мужественной борьбе со смертью ради жизни и своей любви. Это произведение уже середины прошлого века (1951). Однако в те годы в Австралии была настоящая эпидемия, а условия лечения оставляли желать лучшего. В стране, где больше всего в мире свежего воздуха и прекрасной природы, люди заражались и гибли от туберкулеза в трущобах, в которые не поступал ни единый луч солнца. Чтобы освободилось место в государственном санатории, больные месяцами ждали, чтобы какой-нибудь пациент скончался от чахотки, и освободилось место: «Люди не представляют такой ценности, как собаки и лошади. Их нельзя ни продать, ни выставить на скачки».
В романе «Санаторий Арктур» (1940) Константин Федин описал обреченных на гибель представителей «цвета» буржуазной интеллигенции, где люди гибнут не столько от чахотки, сколько от душевной боли по Родине. В его основу легли факты периода лечения от туберкулеза самого автора в Швейцарии.
В каждом из этих сюжетов прослеживается любовная линия. Чувства возникают либо между пациентами («Волшебная гора»), либо между доктором и пациентом («Санаторий Арктур»), либо между безнадежно больным и здоровым («Жизнь взаймы», «Три товарища»).
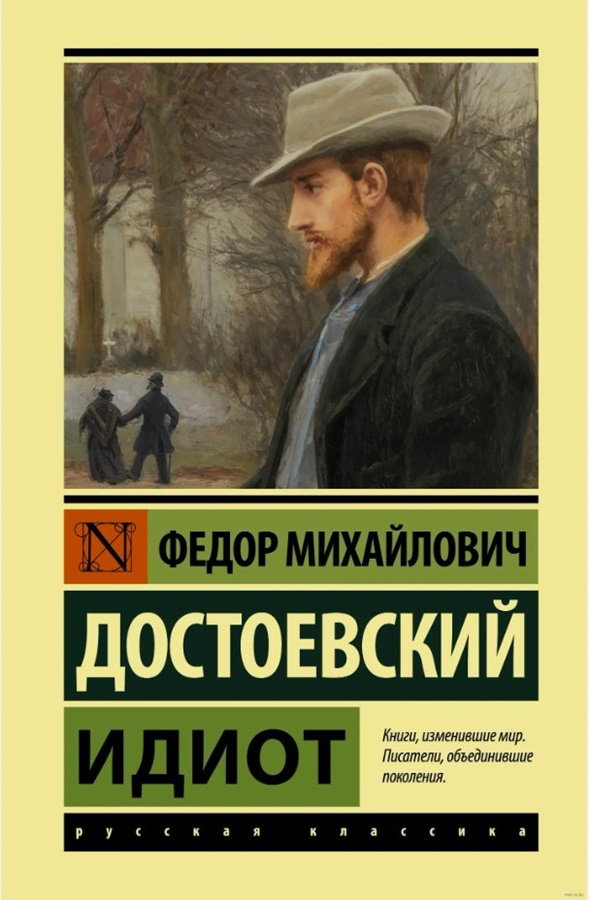
Обложка
«Он был худ как скелет, бледно-желт, глаза его сверкали, и два красные пятна горели на щеках. Он беспрерывно кашлял; каждое слово его, почти каждое дыхание сопровождалось хрипом. Видна была чахотка в весьма сильной степени. Казалось, что ему оставалось жить не более двух-трех недель», – так описывает больного Ипполита Терентьева Федор Достоевский в романе «Идиот». Уже с детских лет Федор Михайлович невольно погрузился в мир медицины – его отец был лекарем в Мариинской больнице для неимущих и бездомных. Достоевский часто общался в больничном саду с пациентами отца, читал их истории болезни и даже беседовал со знаменитыми медиками, работавшими в Мариинской больнице. От туберкулеза умерла мать и первая жена писателя, поэтому он прекрасно знал о коварстве чахотки. В 59 лет писатель скончался от нее и сам.
Страдают от чахотки чеховские персонажи: Коврин (рассказ «Черный монах»), доктор Николай Евграфович (рассказ «Супруга»), Клеопатра (повесть «Моя жизнь»), Маша («Цветы запоздалые»), в создание которых писатель вложил много личного. В них Антон Павлович выступает как писатель, врач и больной. От чахотки умирает постоянно покашливающий, бледный и худой студент Саша – из последнего чеховского рассказа «Невеста». Безуспешно лечится от туберкулеза жена главного героя пьесы «Иванов»; задыхаются в пароходном лазарете по пути с Дальнего Востока на родину солдаты, больные последней стадией чахотки (рассказ «Гусев»). На 32-м году жизни от этой болезни умер брат Чехова Николай. Туберкулез прервал и жизненный путь самого Антона Павловича в возрасте 44 лет.
Медицинские описания больных туберкулезом перекликаются с тогдашними литературными портретами, и, наоборот, персонажи Лермонтова, Тургенева, Герцена будто сошли со страниц медицинских справочников.