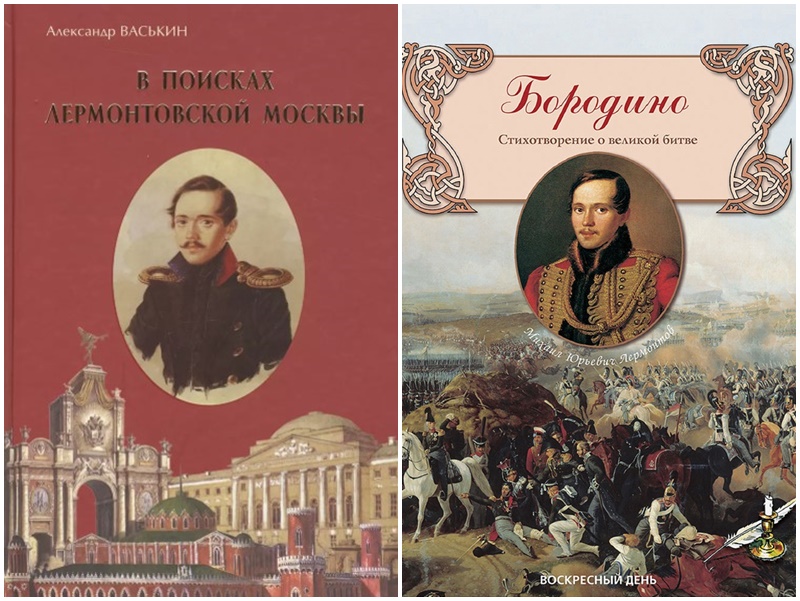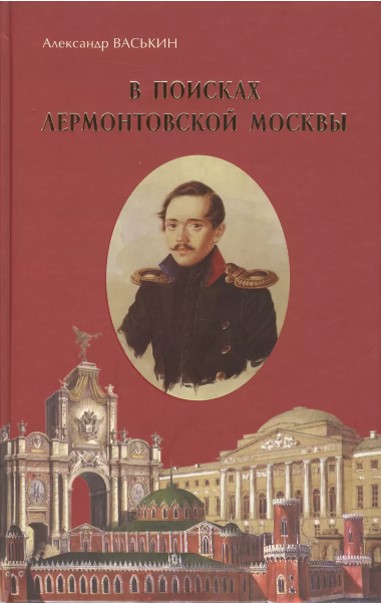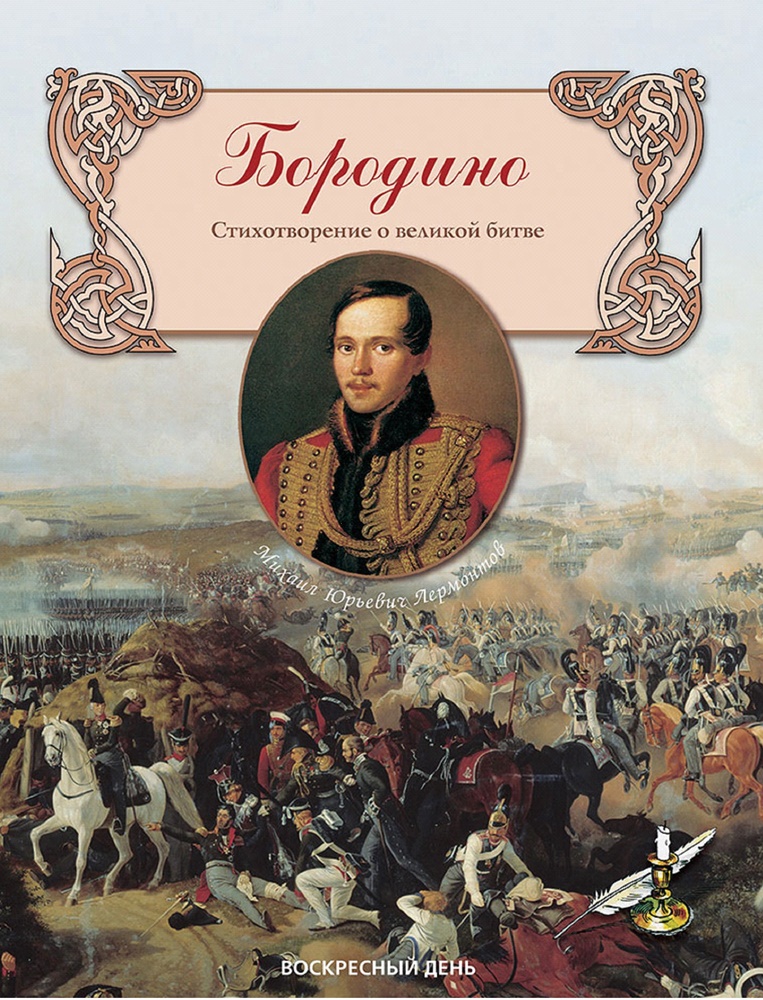- Адрес: Москва, Протопоповский пер., д.9
- Время работы: 08.00-18.00 кроме воскресенья. Последняя пятница - санитарный день
- E-Mail: info@rgbs.ru
Я был готов любить весь мир…
К 210-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова
Лермонтов — особое явление в русской литературе, и об этом точнее всего сказала Анна Ахматова:
«Он подражал в стихах Пушкину и Байрону, зато всем уже целый век хочется подражать ему. Но совершенно очевидно, что это невозможно… Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти площадной эпиграммы до молитвы…
Это так просто и так неожиданно и бездонно:
Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Я уже не говорю о его прозе. Здесь он обогнал самого себя на сто лет».
(Из очерка «Все было подвластно ему» (1964 г.)
А Льву Толстому молва приписывает такие слова о нём: «Если бы этот мальчик остался жить, не нужны были бы ни я, ни Достоевский».
Мятежный поэт, предвидец, обличитель рабства, ханжества, лицемерия, богоборец, сатирик… Как только не трактовали творчество Лермонтова…
А если бы мы сегодня попробовали одним словом охарактеризовать натуру Лермонтова, и чтобы слово это отражало и творчество поэта…
Пожалуй, это слово было бы «любящий». Лермонтов — натура любящая и его «хочу любить» сквозит через всю жизнь и всё творчество. Ахматова в том же высказывании о Лермонтове продолжает:
«…Слова, сказанные им о влюблённости, не имеют равных ни в какой из поэзий мира…»
«Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой».
Герой нашего времени. Окончание журнала Печорина. Княжна Мэри
Не обвиняй меня, всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С её страстями я люблю…
(Молитва, 1829)
Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала. Я любил
Все обольщенья света, но не свет,
В котором я минутами лишь жил…
Но кто меня любил, кто голос мой
Услышит и узнает? И с тоской
Я вижу, что любить, как я, – порок,
И вижу, я слабей любить не мог.
1831-го июня 11 дня
В уме своём я создал мир иной
И образов иных существованье;
Я цепью их связал между собой,
Я дал им вид, но не дал им названья…
(Русская мелодия, 1829)
Он любит весь мир, правду, все обольщенья света, мрак земли с её страстями. Любит Москву, ведь в ночь со 2 на 3 октября 1814 года он появился здесь на свет. В письме Марии Лопухиной (сестре той самой всем известной Вареньки Лопухиной) от 2 сентября 1832 года он признаётся: «Москва – моя родина, и такою будет для меня всегда: там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив».
Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,
Как русский, – сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль, зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Помериться главою и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец; ты вздрогнул – он упал!
Отрывок из поэмы «Сашка», 1835–1836
«Москва — моя родина»
Васькин А. А. В поисках лермонтовской Москвы. К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. — Москва, 2014
Любовь Лермонтова к Москве — истовая, искренняя, безоглядная. Всего лишь тремя словами обозначает поэт в отрывке из поэмы «Сашка» свои чувства: «сильно, пламенно и нежно», но насколько точно и исчерпывающе.
Путешествовать по Москве, любимой Лермонтовым можно с книгой Александра Васькина «В поисках Лермонтовской Москвы». Эта книга о московских адресах поэта, его своеобразный портрет на городском фоне первой половины 19 века.
Площадь у Красных ворот, где родился; Малая Молчановка, где жил в пору студенчества; Московский университетский благородный пансион на Тверской; модные в ту пору гуляния по бульварам, где, возможно, поэт встретил первых персонажей «Маскарада»… О московском периоде жизни автор рассказывает словами самого поэта, современников, друживших, учившихся вместе с Лермонтовым, московской родни, раскрывая с неожиданной стороны факты и события того времени.
Самое первое упоминание о Михаиле Лермонтове оставила метрическая книга церкви Трёх святителей, где за 1814 год была сделана такая запись:
«Октября 2-го в доме господина покойного генерал-майора Фёдора Николаевича Толя напротив красных ворот у живущего капитана Юрия Петровича Лермонтова родился сын Михаил. Крещён того же октября 11 дня… Восприемницею была вдовствующая госпожа гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсеньева».
Место в Москве вполне известное, хотя в том самом виде не сохранилось. И факт рождения младенца вроде бы ничем не примечательный, но попробуем вдуматься в него, вписав в бытовой контекст эпохи…
Какой мы себе представляем Москву 1814 года?
Сожжённая пожаром древняя столица стала постепенно наполняться лишь к лету 1813 года. Одними из первых вернулись из Нижнего Новгорода Карамзины. Картина, представшая историку Государства Российского, была печальной. В письме брату Николай Карамзин писал:
«С грустью и тоской въехали мы в развалины Москвы. Живём в подмосковной нашего князя Вяземского… Здесь трудно найти дом: осталась только пятая часть Москвы. Вид ужасен. Строятся очень мало. Для нас этой столице уже не бывать».
Жильё для Карамзиных в конце концов нашлось, но жить в нём, а тем более работать было затруднительно: несколько комнат без всяких удобств, и притом втридорога. Однако чувство дискомфорта, мешавшее Николаю Михайловичу обживаться в Москве, создавали не только бытовые неудобства и дороговизна: («Цены на все лезут в гору», пуд рафинада — 100 рублей ассигнациями!). И в лучшие свои времена Карамзины жили более чем скромно: придворный историограф, как вспоминают очевидцы, сам ходил в лавочку за чаем и сахаром… Иным стал нравственный климат, словно в великом пожаре сгорели не только дома, драгоценные рукописи и уникальные библиотеки, но и нечто более важное — дух высокого бескорыстия.
«Здесь всё очень переменилось, и не к лучшему. Говорят, что нет и половины прежних жителей. Дворян же едва ли есть и четвертая доля, из тех, которые обыкновенно приезжали сюда на зиму. Один Английский клуб в цветущем состоянии».
Граф Фёдор Ростопчин, инициатор сожжения столицы, негодовал: и его подвиг, и подвиг тех, кто добровольно, действуя заодно с народом, предавал пламени всё своё достояние, перестал вызывать восторг и восхищение. Патриотизм по-ростопчински вдруг, в одночасье, вышел из моды. В послепожарной Москве тон стали задавать реалисты — те, для которых, по едкому определению неистового губернатора, «денежная сторона великой катастрофы» затмила и её славу, и славу ультрамосквича.
Сам Ростопчин определил величину денежного урона в 321 миллион. Между тем Александр Благословенный смог выделить на помощь разорённым бедствием всего лишь 2 миллиона, ведь французские войны опустошили казну. Сумма, в сравнении с масштабом бедствия, была столь мизерной, что смахивала на подаяние…
В такую Москву из далёкого имения Тарханы Пензенской губернии ехала с беременной на сносях дочерью и несамостоятельным зятем вдова гвардии поручица Арсеньева. Знала ли она обо всех этих обстоятельствах? Или пустилась в дальний путь на авось, не ведая, каких усилий и трат будет ей стоить московское зимование. Ведь даже при самом благополучном разрешении Марии Михайловны от бремени, до весны, до окончания распутицы, нечего было и думать о возвращении в Тарханы! По провинциальному, так сказать, недомыслию и неосведомлённости? Знала.
И притом не от досужих посторонних, склонных к панике или, наоборот, прекраснодушию. Уж на что обстоятельным и твёрдым человеком был её новый родственник — адмирал и сенатор Николай Мордвинов, только что (в июле 1813 года) выдавший дочь свою Веру за брата Арсеньевой Аркадия: и деньги, и связи, и громкое имя. А и тот пережидал смутное время в пензенском имении зятя — селе Столыпино.
Для того чтобы, на осень глядя, одинокой вдове вздумалось везти беременную дочь в Москву, минуя Пензу, битком набитую влиятельными родственниками (родная сестра Александра — жена вице-губернатора Евреинова), надо было иметь либо безответственный характер, либо шальные деньги, либо находиться в последней крайности. Безответственностью Елизавета Алексеевна не страдала. Никогда не было у неё и лёгких денег, и если средства всё-таки не переводились, то потому только, что всегда тратила их к месту. А вот крайность, в какую её поставили и раннее замужество дочери, болезненной от рождения, и трудная её беременность, была из самых крайних: госпожа Арсеньева не могла ждать, когда Москва сделается обитаемой. Не было у неё надежды ни на Бога, ни на Пензенских повитух. Нужна была учёная акушерка, а где её в Пензе взять? Думала долго, решила скоро: в Москву.
Устроились в Москве быстро, не мыкались, как другие. Акушерку сыскали ловкую, но языкастую, руки дело делали, а язык невесть что плёл: не умрёт, мол, младенец этот смертью своей. Несмотря на предсказание, младенца нарекли Михаилом в честь покойного деда, не своею смертью умершего. Суеверов среди Столыпиных не было.
Лермонтов родился в доме, пережившим 1812 год. И тема войны 1812 года станет основой одного из его известнейших произведений — стихотворения «Бородино».
«Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя».
Афанасий Алексеевич Столыпин (1788–1864)
День Бородина в семье Лермонтова помнили. И «могучее, лихое племя…» — это о младших братьях бабушки – Дмитрии и Афанасии Столыпиных. Об исполинстве братьев Столыпиных ходили легенды. Вот один забавный провинциальный анекдот. Отец Екатерины Сушковой (предмета юношеской влюблённости Лермонтова) — буян, игрок и придира, повздорил как-то с одним из братцев Елизаветы Арсеньевой и, чтобы дать ему пощёчину, вынужден был, схватив стул, взобраться на него. Взбешённый гигант хотел было «смять его как козявку», да не тут-то было: юркий
Хотя он и не жил в Тарханах, содержал усадьбу через надёжного управляющего в безупречном порядке. Так же поступали и его наследники, благодаря чему, позднее в Тарханах, в оригинальных интерьерах, удалось создать музей, посвящённый поэту.
А как упоминается в «Бородине» Москва?
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умрёмте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!
Какая нежная любовь к Первопристольной!
В первом московском доме семья с маленьким Мишей пробыла до начала 1815 года. Ничего не осталось от дома Толя, где родился поэт, он мешал транспортным потокам Садового кольца.
Не сохранилось и церкви, где младенца крестил весьма известный церковный писатель и переводчик с латинского и французского протоиерей Николай Другов. Приговор был тем же – улучшение транспортной обстановки города. Но кое-что всё-таки чудом сохранилось – иконостас храма, перенесённый в церковь Иоанна Воина на Якиманке.
И, наконец, Красные ворота — первая ласточка новой традиции ставить триумфальные врата в честь военных побед тоже пошли под снос.
Через 5 лет, в 1819 году Мишель вместе с бабушкой вновь в Москве. Что мог помнить мальчик в нежном возрасте от поездки? Сохранились лишь мимолётные воспоминания. В одном из его взрослых писем, адресованных Марии Акимовне Шан-Гирей (двоюродная тётя Лермонтова) он писал, что видел оперу «Невидимка». Полное название этой оперы – «Князь-Невидимка, или Личард-Волшебник», музыку к ней сочинил Катерино Альбертович Ка́вос (он отмечен и сочинением оперы «Иван Сусанин». Вместе с «Жизнью за царя» Глинки обе оперы долго шли параллельно на российских сценах). Но где же мог слушать и смотреть оперу Миша Лермонтов и его бабушка Елизавета Алексеевна? Большой Петровский театр сгорел ещё в 1805 году, а в пожаре 1812 года одним из первых сгорел Арбатский театр.
А спектакли в это время давались в усадьбе Александра Ильича Пашкова, троюродного брата бездетного Петра Егоровича Пашкова, того самого, что выстроил на Боровицком холме всем известный дом. Александр Ильич расширил усадьбу и построил «второй дом Пашкова», позднее переделанный в новое здание Московского университета. И вот что интересно: пройдёт немного лет, и Лермонтову вновь предстоит оказаться в университетских стенах, но теперь уже в качестве студента.
«О, какое блаженство внимать этой неземной музыке»
Музыка — безусловно, это ещё одна любовь поэта, и по словам музыковеда и литературоведа Иосифа Эйгеса «Лермонтов бесспорно является одним из самых одарённых в музыкальном отношении русских поэтов». Музыка, которая окружала Лермонтова, проникала в его жизнь и поэзию — может быть отдельным разговором о творчестве поэта.
Самое раннее свидетельство о любви Лермонтова к музыке принадлежит ему самому: «Когда я был трёх лет, то была песня, от которой я плакал: её не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б услыхал её, она бы произвела прежнее действие. Её певала мне покойная мать» (заметка 1830 г.).
Мария Михайловна Лермонтова (1795–1817)
Мать Лермонтова умерла, когда будущему поэту было меньше двух с половиной лет. И такая музыкальная память — уникальное явление и верный признак таланта. Сегодня ничего не известно о песне, от которой плакал трёхлетний Миша Лермонтов. Неизвестно, какое именно аллегро из технически сложного скрипичного концерта Людвига Вильгельма Маурера, исполнял будущий поэт зимой 1829 года в Университетском благородном пансионе, переходя из пятого в шестой класс. Неизвестно, что конкретно он играл на флейте, какие романсы «говорил речитативом» и какие «пел презабавные русские и французские куплеты». Долгое время не могли выяснить, что же была за цыганская песня, которая очень нравилась Лермонтову.
Родственник поэта Дмитрий Аркадьевич Столыпин рассказывал, как он однажды в 1835 или 1836 году приехал к Лермонтову в Царское Село и отправился с ним к цыганам, где они провели целый вечер. На вопрос Столыпина, какую песню Лермонтов любит более всего, поэт ответил: «А вот послушай!» — и велел спеть. К сожалению, из всей песни Столыпин запомнил только две отдельные строки — «А ты слышишь ли, милый друг, понимаешь ли…» и «Ах ты, злодей, злодей…». Вот эту песню он особенно любил и за мотив, и за слова».
Разыскать эту песню удалось лермонтоведу Ольге Валентиновне Миллер… Главный её труд — библиография литературы о Лермонтове, составившая четыре тома и охватывающая около 20.000 публикаций с 1825 по 2000 гг. По-видимому, считает она, речь идёт о старинной русской песне «Слышишь ли, мой сердечный друг». Нашлись и ноты этой песни.
По свидетельству Афанасия Фета, которому довелось слышать эту песню в 1856 году, она является «высоким образчиком народной поэзии» и требует особого мастерства исполнения, так как полна «всевозможных переливов, управляемых минутным вдохновением».
Любовь к музыке проникала часто в лермонтовские тексты. Не говоря вообще о музыкальности его слова.
18 августа 1835 года московская родственница Лермонтова, Александра Верещагина, разгадавшая лучше всех его характер, спрашивала у него в письме: «А ваша музыка? Всё ли вы играете увертюру „Немой из Портичи“, поёте ли дуэт из „Семирамиды“, полагаясь на свою удивительную память, поёте ли его, как раньше, во весь голос и до потери дыхания?»
«Немая из Портичи» (1828) — опера французского композитора Даниэля-Франсуа-Эспри Обера, которая исполнялась в 1833–1834 годах в Петербурге немецкой труппой под названием «Фенелла». Увлечение Лермонтова этой оперой отражено в его неоконченном романе «Княгиня Лиговская»: в шестой главе один из гостей Печорина, Браницкий, даже насвистывает из неё арию.
Опера пользовалась огромным успехом, было выпущено её переложение для фортепиано, которое, очевидно, и было у Лермонтова, игравшего по клавиру увертюру оперы, о чём упоминает Верещагина.
Ещё одно свидетельство того, что Лермонтов интересовался современной музыкой и знал её — очерк «Панорама Москвы», написанный им в школе юнкеров (1833–1834).
«Едва проснётся день, как уже со всех её златоглавых церквей раздаётся согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Беетговена, в которой густой рёв контрбаса, треск литавр, с пением скрыпки и флейты, образуют одно великое целое, — и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!.. О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого… и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что всё это для вас одних… и пожирать очами этот огромный муравейник, где суетятся люди, для вас чуждые, где кипят страсти, вами на минуту забытые!».
Под описание инструментовки и по времени подходит «Героическая симфония» (если Лермонтов мог назвать симфонию увертюрой), а также увертюры «Кориолан» или «Эгмонт».
«Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гёте: „Лесной царь“. Когда она кончила, Лугин встал…» Это цитата из неоконченной повести «Штосс» о художнике Лугине. Сюжет повести рассказывает о талантливом художнике, который возвращается из Италии в Петербург и не может закончить женский портрет. В это время люди кажутся ему жёлтыми, а странный голос постоянно нашёптывает какой-то адрес. Лугин решает переехать в квартиру № 27 советника Штосса.
Повесть отчасти биографична… Если предположить, что в отрывке отражена музыкальная жизнь Петербурга начала 1841 года (февраль-апрель), когда Лермонтов там жил, то в «заезжей певице» можно увидеть знаменитую немецкую оперную и камерную певицу Сабину Гейнефеттер, которая как раз в это время гастролировала в Петербурге и к приезду Лермонтова выступала только в концертах. Она стала героиней «гостиных на Английской набережной» и «залов Большой Морской». Из исполняемого ею особенно сильное впечатление производил романс Шуберта «Странник» на слова Гёте (1823).
Вольный перевод Лермонтовым стихотворения Гёте впервые был опубликован в 1840 году в журнале «Отечественные записки» с названием «Из Гёте»:
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.
«Бога ради, Мишель, не изменяйте этому таланту…»
«Мой милый Мишель, я больше не беспокоюсь за ваше будущее — однажды вы станете великим человеком… Вы мне ничего не говорите о ваших сочинениях. Надеюсь, что вы не прекращаете писать, и я думаю, что вы пишете хорошо. Вы ещё уведомите меня в том, что у вас есть друзья, которые их читают и умеют судить о них лучше, чем я, но я уверяю вас, что придётся поискать среди них таких, которые бы их читали с большим удовольствием. Ожидаю, что после такого увещания вы сочините мне катрен для моего нового года.
О ваших занятиях рисованием, говорят, вы делаете поразительные успехи, и я этому вполне верю. Бога ради, Мишель, не изменяйте этому таланту, картина, которую вы прислали Alexis, очаровательна».
Это цитата из того же письма Александры Верещагиной, что мы упоминали выше.
Любовь к изобразительному искусству обнаружилась у Лермонтова с самого раннего возраста. По воспоминаниям его самого близкого друга Святослава Раевского, пол в детской будущего поэта был покрыт сукном, по которому он мог свободно ползать и рисовать мелом.
Даже на раннем портрете, где Лермонтову 4–5 лет, он изображён с мелком в руке. Аким Шан-Гирей, вспоминая о детских годах писал: «…он был счастливо одарён способностями к искусствам; уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины…».
Сослуживцы по лейб-гусарскому полку вспоминали, что Лермонтов прекрасно рисовал.
Графина Евдокия Ростопчина в своих воспоминаниях говорит: «Главная его <Лермонтова> прелесть заключалась преимущественно в описании местностей; он сам хороший пейзажист, дополнял поэта — живописцем…»
Висковатый, написавший первую биографию Лермонтова на основании материалов, полученных непосредственно от родственников поэта и близких ему людей, роняет такую фразу: «Михаил Юрьевич имел дарование к музыке и большой талант к живописи. Он его не выработал, но был момент в жизни, когда он колебался между живописью и поэзиею».
Но ревнивые литературоведы упорно твердят, что художественное творчество Лермонтова уступает литературному. Их можно понять. Ведь рисуя картину словом, поэт будто использует краски:
Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка…
1837
…………………
И вижу я себя ребёнком, и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зелёной сетью трав подёрнут спящий пруд
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею тёмную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и жёлтые листы
Шумят под робкими шагами.
1-е января, 1840 (Как часто пёстрою толпою окружён…)
Иннокентий Анненский писал: «Лермонтов любил краски… поэт любит розовый закат, белое облако, синее небо, лиловые степи, голубые глаза и золотистые волосы».
Конечно, художественное творчество Лермонтова дошло до нас не в полном объёме. Долгое время его рисунки и картины не публиковались, хранились в частных архивах, часть из них утрачена, на многих невозможно точно подтвердить авторство. Сейчас среди работ Лермонтова насчитывают более десяти картин маслом, около полусотни акварелей, более 300 рисунков и набросков, в том числе в альбомах и рукописях.
Надо отметить, что традиции дворянского воспитания предполагали наряду с уроками фехтования, музыки, иностранных языков с юных лет занятия живописью и рисунком. Кроме того, увлечению рисованием способствовал и повсеместный расцвет альбомной культуры, и лучшие альбомные рисунки того времени отличаются уверенным владением линией, способностью мгновенным очерком создать образ, точностью в деталях, композиционным чутьём. Однако из множества грамотно рисующих профессионалами становились единицы.
Первым наставником Лермонтова в живописи стал художник Александр Солоницкий: именно он готовил юношу к поступлению в Московский благородный университетский пансион. Солоницкий — художник с дарованием ниже среднего, но педагог опытный и модный, и был по совету Мещериновых приглашён Елизаветой Алексеевной для подготовки Миши к экзаменам. По всему Лермонтов к Солоницкому прислушивался и очень уважал его. Осенью 1827 года Лермонтов пишет Марии Акимовне Шан-Гирей (племянница Арсеньевой) в Апалиху: «Заставьте, пожалуйста, Екима рисовать контуры, мой учитель говорит, что ещё буду их рисовать с полгода». Ей же в декабре 1828 года: «Скоро я начну рисовать с (buste) бюстов… какое удовольствие! К тому ж Александр Степанович мне показывает также, как должно рисовать пейзажи».
Герцог Лерма, худ. М. Лермонтов, х. м., 1832-1833
Известно, что в пансионские годы Лермонтов тяготел к Рембрандту с его романтической мрачностью… Принцип рембрандтовской светотени, при которой всё второстепенное погружено во мрак, по-видимому очень волновали воображение Лермонтова, потому что в рембрандтовской манере сделан целый ряд акварельных рисунков Мишеля: «Испанец с кинжалом» (1830-1831), «Юноша в бурнусе и восточном головном уборе» (1831), «Портрет мужчины в плаще» (или «Фаталист», 1836).
К этому циклу акварелей примыкает картина, написанная маслом в 1833 году, — «Герцог Лерма» — портрет воображаемого предка Лермонтова, испанского герцога. Поиски своих корней со стороны отца постоянно занимали разум Лермонтова, и герцога Лерму Мишель отыскал в шиллеровском «Доне Карлосе». Некоторое время он даже подписывал фамилией Лерма и письма, и стихи; по некоторым сведениям, и запрос в Мадридский исторический архив посылал, уж очень хотелось заполучить занесённого в высший гербовник родоначальника! Предок по испанской линии оказался мнимым, в этом Лермонтов убедился самолично.
А картина эта имеет свою историю.
В письме Марии Лопухиной от 2 сентября 1832 года Лермонтов пишет:
«Мадемуазель Аннетт говорила мне, что ещё не стёрли со стены знаменитую голову… Жалкое самолюбие! Это меня обрадовало, да ещё как! Что за глупая страсть: оставлять везде следы своего пребывания…»
Речь идёт о нарисованном углём поясном портрете мужчины на стене дома Лопухиных на углу Поварской и Молчановки. Этот лик Лермонтов увидел во сне. Он был изображён с испанской бородкой, широким кружевным воротником и с цепью ордена Золотого Руна вокруг шеи. В глазах и, во всей верхней части лица нетрудно было заметить сходство с самим нашим поэтом. Голова эта была затёрта при поправке штукатурки, и Алексей Лопухин был очень опечален…
Тогда Лермонтов нарисовал такую же голову на холсте и выслал Лопухину из Петербурга, за что Алексей Лопухин был очень благодарен. Портрет хранился в семье Лопухина и в 1886 был передан его сыном в Лермонтовский музей при Николаевском кавалерийском училище. С 1917 года — хранится в ИРЛИ.
Но портрет этот в форме экфрасиса ещё раз встречается в тексте романа «Княгиня Лиговская».
Вообще нетрудно заметить, что в ряде случаев литературные произведения можно соотнести с той или иной группой изобразительного наследия поэта. И более того иногда Лермонтов-художник даже опережает Лермонтова-писателя. «Княгиня Лиговская» изобилует портретной живописью.
«Остальные стены были голые, кругом и вдоль по ним стояли широкие диваны, обитые шерстяным штофом пунцового цвета; – одна единственная картина привлекала взоры, она висела над дверьми, ведущими в спальню; она изображала неизвестное мужское лицо, писанное неизвестным русским художником, человеком, не знавшим своего гения и которому никто об нем не позаботился намекнуть. – Картина эта была фантазия, глубокая мрачная. – Лицо это было написано прямо, безо всякого искусственного наклонения или оборота, свет падал сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо, – казалось, вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке… Голова была больше натуральной величины, волосы гладко упадали по обеим сторонам лба, который круглó и сильно выдавался и, казалось, имел в устройстве своем что-то необыкновенное. Глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которым иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски; испытующий и укоризненный луч их, казалось, следовал за вами во все углы комнаты, и улыбка, растягивая узкие и сжатые губы, была более презрительная, чем насмешливая; всякий раз, когда Жорж смотрел на эту голову, он видел в ней новое выражение; – она сделалась его собеседником в минуты одиночества и мечтания – и он, как партизан Байрона, назвал ее портретом Лары. – Товарищи, которым он ее с восторгом показывал, называли ее порядочной картинкой».
И всё же рембрандтовское начало в изобразительном творчестве Лермонтова только частность, — круг его поисков был очень широк.
В основном все работы художника делят на несколько групп по жанрам: военная тема, иллюстрации к собственным и чужим произведениям, жанровые сцены, карикатуры, пейзажи, портреты.
Пейзажи встречаются у Лермонтова и в живописи, и в графике. И больше всего кавказских сюжетов. Ведь Кавказ — ещё одна любовь Лермонтова.
«Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор»
Вид Пятигорска, худ. М. Лермонтов, х. м., 1837-1838
Кавказ впечатлил его с первых детских поездок, когда бабушка возила Михаила на воды, чтобы вылечить от золотухи. Точно не известно, но биографами указывается, что в детском возрасте Лермонтов бывал на Кавказе 2 или 3 раза. Впервые предположительно в 1818 году, и достоверно подтверждено — в 1820 и 1825-м.
«Кавказ был колыбелью его поэзии, так же, как он был колыбелью поэзии Пушкина, и после Пушкина никто так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления его девственно величавой природы, как Лермонтов», — пишет Белинский.
Синие горы Кавказа, приветствую вас!
вы взлелеяли детство моё;
вы носили меня на своих одичалых хребтах,
облаками меня одевали,
вы к небу меня приучили,
и я с той поры всё мечтаю об вас да о небе.
И чуть далее:
Как я любил твои бури, Кавказ!
те пустынные, громкие бури,
которым пещеры как стражи ночей отвечают!..
На гладком холме одинокое дерево,
ветром дождя ли нагнутое,
иль виноградник шумящий в ущелье,
и путь неизвестный над пропастью,
где, покрываясь пеной,
бежит безымянная речка
и выстрел нежданный,
и страх после выстрела;
враг ли коварный,
иль просто охотник…
всё, всё в этом крае прекрасно.
1832
От этого юношеского отрывка прямые нити тянутся к словам Печорина в «Герое нашего времени»: «Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озарённых южным солнцем, при виде голубого неба, или внимая шуму потока, падающего с утёса на утёс».
Лермонтов увлёкся Кавказом. Он начал даже учить азербайджанский язык и писал Раевскому, что желал бы остаться на Кавказе.
Мы уже убедились, что у Михаила Лермонтова была очень цепкая память, и конечно, воспоминания 11-летнего отрока не могли не сказаться на творчестве. А в памяти остались разговоры с Марией Акимовной Шан-Гирей, с её мужем Павлом Петровичем, штабс-капитаном в отставке, человеком образованным, участником ермоловских походов. Прожив на Кавказе 15 лет, Павел Петрович хорошо узнал быт горцев, их культуру, обряды, песни. И все эти разговоры впоследствии преобразятся Лермонтовым в поэзию.
Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный.
Как сына, ты его благослови
И осени вершиной белоснежной.
От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;
На севере, в стране тебе чужой,
Я сердцем твой, —
всегда и всюду твой!..
Это посвящение относится 1830 году, а в 1828 — стихотворение «Черкешенка»
Я видел вас: холмы и нивы,
Разнообразных гор кусты,
Природы дикой красоты,
Степей глухих народ счастливый
И нравы тихой простоты!
Но там, где Терек протекает,
Черкешенку я увидал, —
Взор девы сердце приковал;
И мысль невольно улетает
Бродить средь милых, дальных скал.
Черкешенка, 1828
«Любить необходимость мне…»
Свою первую, ещё детскую любовь Лермонтов испытал на Кавказе. В автобиографических заметках в 1830 году он напишет:
«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тётушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я её видел там. Я не помню, хороша была она или нет. Но её образ и теперь ещё хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиной в куклы: моё сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чём ещё не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая, это была истинная любовь; с тех пор я ещё не любил так. О, сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум. И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины, желал её видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату, не хотел говорить о ней и убегал, слыша её название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтобы биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда… И поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они забыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят её существованию, а это было бы мне больно… Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринуждённость…
Нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священны…»
«Я не могу любовь определить. Но это страсть сильнейшая! Любить необходимость мне; и я любил всем напряжением душевных сил», — пишет Лермонтов 11 июня 1831 года.
Кого любил Лермонтов, кто любил его?
Мисс Блэк айз
Екатерина Александровна Сушкова (1812–1868)
Весна 1830 года — начало развития романа с Екатериной Сушковой. Москва. 15-летний Лермонтов знакомится с ней у своей кузины Сашеньки Верещагиной. Сушкова старше его на два с половиной года, у неё множество ухажёров, но московское общество ей не приглянулось — по сравнению с петербургским светом. Поэтому она вовсе не замечает влюблённого юношу:
«Один раз мы сидели вдвоём с Сашенькой в её кабинете, как вдруг она сказала мне: „Как Лермонтов влюблён в тебя!“ — Лермонтов! Да я не знаю его и, что всего лучше, в первый раз слышу его фамилию».
Летом того же 1830 года Лермонтов и Сушкова снова встречаются в Середниково (подмосковная усадьба Дмитрия Алексеевича Столыпина). Теперь они общаются, но ухаживания Лермонтова вновь отвергнуты. Сушкова всячески подчёркивает разницу в возрасте:
«…Мне восемнадцать лет, я уже две зимы выезжаю в свет, а вы ещё стоите на пороге этого света и не так-то скоро его перешагнёте».
Отвергнутый Лермонтов пишет цикл стихотворений о неразделённой любви.
Смеялась надо мною ты,
И я презреньем отвечал, —
С тех пор сердечной пустоты
Я уж ничем не заменял.
Ничто не сблизит больше нас,
Ничто мне не отдаст покой…
Хоть в сердце шепчет чудный глас:
Я не могу любить другой.
Лермонтов, «Стансы»
Но Сушковой приношения не принимает: «Благодарю вас, Monsieur Michel, за ваше посвящение и поздравляю вас, с какой скоростью из самых ничтожных слов вы извлекаете милые экспромты, но не рассердитесь за совет: обдумывайте и обработывайте ваши стихи, и со временем те, которых вы воспоёте, будут гордиться вами. <…> Когда из вас выйдет настоящий поэт… тогда я с наслаждением буду вспоминать, что ваши первые вдохновения были посвящены мне, а теперь, Monsieur Michel, пишите, но пока для себя одного».
«Записки» Сушковой
Прошло три года, у Сушковой назревает роман с Алексеем Лопухиным, дело даже идёт к помолвке. Семейство Лопухина против, эту же позицию занимает и Верещагина, и постоянно пытается расстроить этот союз. И втягивает в эту интригу Лермонтова. Лермонтов хочет отмщенья за пренебрежение, а заодно спасти друга от брака с женщиной, которую считал опытной кокеткой.
«Я начал ухаживать за ней не потому, что это было отблеском прошлого, — сперва это являлось предлогом для времяпровождения, а затем, когда мы пришли к доброму согласию, сделалось расчётом».
Письмо Лермонтова Верещагиной, весна 1835 года
Однажды Лермонтов бесцеремонно является в дом к Сушковой и страстно целует ей руку.
«Что это был за поцелуй! Если я проживу и сто лет, то и тогда я не позабуду его. <…> Всю ночь я не спала, думала о Л[опу]хине, но ещё более о Мишеле; признаться ли, я целовала свою руку, сжимала её и на другой день чуть не со слезами умыла её: я боялась сгладить поцелуй».
«Записки» Сушковой
Вскоре дело принимает решительный оборот. А в письме Верещагиной Лермонтов пишет:
«Я понял, что m-lle С[ушкова], желая изловить меня (техническое выражение), легко скомпрометирует себя ради меня; потому я её и скомпрометировал, насколько было возможно, не скомпрометировав самого себя: я обращался с нею в обществе так, как если бы она была мне близка, давая ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня…»
Письмо Лермонтова Верещагиной
Кажется, Екатерина Сушкова запутывается в расставленных сетях. Лермонтов добился своего, и теперь ему надо расстроить ещё и собственную связь с Сушковой, чтобы не жениться на ней. Для этого он пишет ей анонимное письмо, в котором говорит гадости о самом себе, но устраивает так, чтобы его прочли все родственники Сушковой.
Конечно, от такого письма и развития событий родственники Сушковой закрывают девицу под домашний арест, а Лермонтов тем временем пытается напроситься в гости к Сушковым. Но Лермонтову от дома, конечно, отказано. Когда они, наконец, встречаются на балу, Лермонтов холоден и язвителен, и даёт понять Сушковой, что всё кончено. И пишет письмо Верещагиной, в котором рассказывает всю историю.
«Так шло это трогательное приключение, которое, конечно, даст вам обо мне весьма лестное мнение. Впрочем, женщина всегда прощает зло, которое мы причиняем другой женщине (афоризмы Ларошфуко). Теперь я не пишу романов — я их делаю».
Письмо Лермонтова Верещагиной
Через два года (1836) после всех этих событий Лермонтов пишет роман «Княгиня Лиговская» (не окончен), в котором зло и подробно пересказывает свои приключения, приписав их Печорину. 22-летняя Сушкова в романе — это 25-летняя «отцветшая красавица» Елизавета Негурова.
«Она была в тех летах, когда ещё волочиться за нею было не совестно, а влюбиться в неё стало трудно; в тех летах, когда какой-нибудь ветреный или беспечный франт не почитает уже за грех уверять шутя в глубокой страсти, чтобы после так, для смеху, скомпрометировать девушку в глазах подруг её, думая этим придать себе более весу… уверить всех, что она от него без памяти и стараться показать, что он её жалеет, что он не знает, как от неё отделаться… бедная, предчувствуя, что это её последний обожатель, без любви, из одного самолюбия старается удержать шалуна как можно дольше у ног своих… напрасно: она более и более запутывается, — и наконец… увы… за этим периодом остаются только мечты о муже, каком-нибудь муже… одни мечты».
Лермонтов, «Княгиня Лиговская»
Сушкова писала мемуары, и, конечно, историю с Лермонтовым она изменяла в выгодную для себя сторону. В 1870 году, уже после смерти Сушковой публикуются её записки, в которых учёные обнаруживают много несоответствий в этой истории. А сам Лермонтов в 1830 году писал.
Благодарю!.. Вчера моё признанье
И стих мой ты без смеха приняла;
Хоть ты страстей моих не поняла,
Но за твоё притворное вниманье
Благодарю!
В другом краю ты некогда пленяла,
Твой чудный взор и острота речей
Останутся навек в душе моей,
Но не хочу, чтобы ты мне сказала:
Благодарю!
Я б не желал умножить в цвете жизни
Печальную толпу твоих рабов
И от тебя услышать, вместо слов
Язвительной, жестокой укоризны:
Благодарю!
О, пусть холодность мне твой взор покажет,
Пусть он убьёт надежды и мечты
И все, что в сердце возродила ты;
Душа моя тебе тогда лишь скажет:
Благодарю!
1830 г
«Как луч зари, как розы Леля»
Наталья Фёдоровна Иванова (1813–1875)
«Поеду… Увижу Наташу, этого ангела! Взор женщины, как луч месяца, невольно приводит в грудь мою спокойствие. Год тому назад, увидав её в первый раз, я писал об ней в одном замечании. Она тогда имела на меня влияние благотворительное, а теперь – теперь, когда вспомню, то вся кровь приходит в волнение. И сожалею, зачем я не так добр, зачем душа моя не так чиста, как бы я хотел.
Может быть, она меня любит; её глаза, румянец, слова… Какой я ребёнок! – все это мне так памятно, так дорого, как будто одними её взорами и словами я живу на свете. Что пользы? Так вот конец, которого я ожидал прошлого года!.. Боже! боже! чего желает моё сердце? Когда я далеко от неё, то воображаю, что скажу ей, как горячо сожму её руку, как напомню о минувшем, о всех мелочах… А только с нею – все забыто; я истукан! душа утонет в глазах; все пропадёт: надежды, опасенья, воспоминания… О! какой я ничтожный человек! Не могу даже сказать ей, что люблю её, что она мне дороже жизни; не могу ничего путного сказать, когда сижу против этого чудного созданья!»
«Странный человек»
Наташа долгое время в лермонтоведении была инкогнито. Загадку НФИ (Наталии Фёдоровны Ивановой) раскрыл Ираклий Андроников (хотя и не он первый нашёл адресата 33 стихов ивановского цикла, но история, которую он рассказывает достойна самого захватывающего детектива).
Ко времени знакомства с Лермонтовым – а они познакомились в Москве в 1830 году, – Ивановой было 17 лет, а неловкому и застенчивому поэту – всего 16. Наталья покорила Лермонтова с первого взгляда, и немудрено – в такую девушку невозможно было не влюбиться:
Как луч зари, как розы Леля,
Прекрасен цвет её ланит;
Как у мадоны Рафаэля
Её молчанье говорит.
С людьми горда, судьбе покорна,
Не откровенна, не притворна,
Нарочно, мнилося, она
Была для счастья создана.
1832
Наталья была дочерью московского драматурга Фёдора Иванова, автора популярных в то время произведений – нашумевшего водевиля «Семейство Старичковых» и драмы «Марфа Посадница», друг поэтов Батюшкова, Вяземского и Мерзлякова, известный всей Москве хлебосол, весельчак и театрал. К несчастью, в 39 лет драматург умер, оставив двух маленьких дочек, воспитывавшихся в последствии в доме отчима Чарторыжского. Видимо, молодой Лермонтов настолько пришёлся по вкусу её домашним, что получил приглашение погостить несколько дней в их загородном поместье (недалеко от Середниково). Овдовевшая мать Наташи и её сестры Дарьи, была крайне заинтересована в том, чтобы девицы не скучали. Лермонтов был сильно влюблён в девушку. Но любила ли она его? Эта тайна быстро обретает реальные черты, как только мы начинаем читать драму «Странный человек». Наташа Загорскина списана с Натальи Ивановны, а Владимир Арбенин — сам влюблённый поэт.
Влюблённый Владимир Арбенин признается:
«Странно: она меня любит — и не любит! Она со мною иногда так добра, так мила, так много говорят глаза её, так много этот румянец стыдливости выражает любви… а иногда, особливо на бале где-нибудь, она совсем другая, – и я больше не верю ни её любви, ни своему частью!»
А сама Наташа Загорскина говорит княжне Софье:
«Да, это правда: Арбенин мне сначала нравился и очень занимал воображение, но этот сон, как все печальные сны, прошёл. Я теперь прошу, Софья, не напоминай мне более о нём»
Так же, как и Загорскина, Наташа Иванова предпочла другого. Арбенин бросает в лицо изменнице:
«Ты забудешь меня? Ты? О, не думай: совесть вернее памяти; не любовь, раскаяние будет тебе напоминать обо мне!.. Разве я поверю, чтоб ты могла забыть того, кто бросил бы вселенную к ногам твоим, если б должен был выбирать: вселенную или тебя!..»
И. Л. Андроников в 1930-х годах отыскал внучку Н.Ф. Ивановой Наталью Сергеевну Маклакову, которая рассказала: «…Михаил Юрьевич Лермонтов был влюблён в мою бабушку — Наталью Фёдоровну Обрескову, урождённую Иванову, я неоднократно слышала от моей матери Натальи Николаевны и ещё чаще от её брата Дмитрия Николаевича и его жены. У нас в семье известно, что у Натальи Фёдоровны хранилась шкатулка с письмами М. Ю. Лермонтова и его посвящёнными ей стихами и что все это было сожжено из ревности её мужем Николаем Михайловичем Обресковым.
Со слов матери знаю, что Лермонтов и после замужества Натальи Фёдоровны продолжал бывать в её доме. Это и послужило причиной гибели шкатулки. Слышала также, что драма Лермонтова «Странный человек» относится к его знакомству с Н.Ф. Ивановой». У Ивановой же хранился экземпляр этой пьесы, аккуратно переписанный самим Лермонтовым и с посвящением в стихах.
Вот он, фрагмент из этих стихов на разлуку, которые мы заучивали наизусть в школе:
Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней,
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней…
Узнав о том, что любимая предпочла другого, Лермонтов в коротенькой взволнованной записочке, адресованной Николаю Поливанову, другу университетской поры, писал: «Я теперь сумасшедший совсем. Болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры…».
Кто же стал избранником Натальи? Увы, человек весьма посредственный, да ещё с запятнанной репутацией, замешанный в скандале, связанным с кражей драгоценностей, отстранённый от света. С 1836 года Наталья Фёдоровна поселилась с Обресковым в Курске. Её сестра Дарья Фёдоровна прожила в этом городе до самой смерти. А после неё там продолжали жить её дочери. Понятно, что стихи Лермонтова, посвящённые сёстрам Ивановым, курские любительницы поэзии переписывали из их альбомов в свои.
Умерла Н.Ф.И. 20 января 1875 года, на шестьдесят втором году жизни. Погребена на Ваганьковом кладбище.
Лермонтов М. Ю. – К Н. И…
Я не достоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила.
Ты не коварна, как змея,
Лишь часто новым впечатленьям
Душа вверяется твоя.
Она увлечена мгновеньем;
Ей милы многие, вполне
Ещё никто; но это мне
Служить не может утешеньем.
В те дни, когда, любим тобой,
Я мог доволен быть судьбой,
Прощальный поцелуй однажды
Я сорвал с нежных уст твоих;
Но в зной, среди степей сухих,
Не утоляет капля жажды.
Дай бог, чтоб ты нашла опять,
Что не боялась потерять;
Но… Женщина забыть не может
Того, кто так любил, как я;
И в час блаженнейший тебя
Воспоминание встревожит!
Тебя раскаянье кольнёт,
Когда с насмешкой проклянёт
Ничтожный мир моё названье!
И побоишься защитить,
Чтобы в преступном состраданье
Вновь обвиняемой не быть!
1831
«Мне ваш Демон нравится…»
Мария Алексеевна Щербатова (1820–1879)
С Марией Алексеевной Щербатовой Лермонтов познакомился в 1839 г. в салоне Карамзиных. Она — молодая вдова, блондинка с синими глазами, она была, по словам М. И. Глинки, «видная, статная и чрезвычайно увлекательная женщина». По свидетельству Акима Шан-Гирея, поэт был «сильно заинтересован кн. Щербатовой», которая, по его признанию, была такова, «что ни в сказке сказать, ни пером описать».
Марии Алексеевне нравилась поэзия Лермонтова. После чтения поэмы «Демон» она сказала автору: «Мне ваш Демон нравится: я бы хотела с ним опуститься на дно морское и полететь за облака».
Александра Осиповна Смирнова вспоминала, что как-то при ней Лермонтов пожаловался Марии Алексеевне, что ему грустно. Щербатова спросила, молится ли он когда-нибудь? Он сказал, что забыл все молитвы. «Неужели вы забыли все молитвы, — воскликнула княгиня Щербатова, — не может быть!» Александра Осиповна сказала княгине: «Научите его читать хоть Богородицу». Щербатова тут же прочитала Лермонтову Богородицу.
К концу вечера поэт преподнёс ей свою «Молитву» («В минуту жизни трудную…»).
М. А. Щербатовой посвящено и стихотворение «Отчего»:
Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно… потому что весело тебе.
Имя Марии Алексеевны вошло в историю дуэли Лермонтова с атташе французского посольства Эрнестом де Барантом, повлёкшей за собой вторую ссылку поэта на Кавказ. Хотя сам де Барант пострадал не меньше: этой дуэлью и дальнейшим развитием ситуации скомпрометировал себя и поставил крест на дипломатической карьере. Кроме того, навредил ещё и своему отцу – французскому послу. Эрнест де Барант был младшим сыном в семье, и приносил родителям немало хлопот. Мнительный, самолюбивый, к тому же был склонен к легкомысленной жизни.
А. П. Шан-Гирей писал, что «слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику, взорвало Баранта… и на завтра назначена была встреча». Николай Михайлович Смирнов, дипломат, муж знаменитой светской львицы Александры Россет, в «Памятных заметках» также рассказывал, что Лермонтов «влюбился во вдову княгиню Щербатову…, за которой волочился сын французского посла барона Баранта. Соперничество в любви и сплетни поссорили Лермонтова с Барантом… Они дрались…»
Какие же сплетни? Видимо французу дали понять, что одно из скабрёзных стихотворений, написанных Лермонтовым 8 лет назад относится к де Баранту. Барант решил выяснить отношения.
Согласно официальным показаниям Лермонтова на суде, при встрече с Эрнестом де Барантом 16 февраля 1840 года на балу у графини Лаваль произошёл следующий диалог:
Барант: Правда ли, что в разговоре с известной особой вы говорили на мой счёт невыгодные вещи?
Лермонтов: Я никому не говорил о вас ничего предосудительного.
Барант: Всё-таки если переданные мне сплетни верны, то вы поступили весьма дурно.
Лермонтов: Выговоров и советов не принимаю и нахожу ваше поведение весьма смешным и дерзким.
Барант: Если бы я был в своём отечестве, то знал бы, как кончить это дело.
Лермонтов: В России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и мы меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно.
Сплетни, интриги всегда сопровождали светскую жизнь, и молва охотно обвинила в дуэли княгиню Щербатову.
В мае 1840 г. Лермонтов, направляясь на Кавказ, в Москве, видимо, встретился с Марией Алексеевной в последний раз. 10 мая её навестил Александр Тургенев, который записал в своём дневнике: «Был у кн. Щербатовой. Сквозь слезы смеётся. Любит Лермонтова». Через несколько месяцев она уехала за границу, когда вернулась, поэта уже не было в живых.
«Я верю: под одной звездою мы с вами были рождены…»
Евдокия Петровна Ростопчина (1812–1858)

Александр Дюма-отец путешествовал по России, собирая дань неостывшей ещё здесь, на задворках Европы, популярности (стоило шутя крикнуть: Дюма — и толпа начинала бросаться в сторону, на которую указывали). Поездка была коммерческой; «Монте-Кристо», еженедельник, созданный королём приключенческого романа, искал новые жанры. Россия, чествуя знаменитого европейца, явно хотела перещеголять самого Монте-Кристо. Князь Дундуков-Корсаков, командующий Кавказским корпусом, в его честь, силами Нижегородских драгун, устроил инсценировку «схватки с Шамилем». Дюма был в восторге и подлога не заподозрил. Дюма-отец ехал дорогой Лермонтова.
Ту же «дорогу» осиливала умирающая от рака Евдокия Ростопчина, сопровождаемая в одиноком своём путешествии лермонтовской строкой:
Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.
Дюма путешествовал. Евдокия Петровна умирала.
Автор «Монте-Кристо» собирался переводить Лермонтова, а может быть, даже и роман о нём написать, ему нужны были подробности. Петербургские гиды на все его вопросы об авторе «Героя…», похожего на роман Мюссе «Исповедь сына века», только разводили руками — мелькнул, де, как комета, не успев оставить след в памяти. Дюма настаивал, и ему посоветовали обратиться к Ростопчиной. Графиня обещала сообщить всё, что знает и помнит.
Романа о Лермонтове Дюма так и не написал, но семь стихотворений, созданных в последние два года жизни поэта, перевёл, стремясь, насколько это было в его возможностях, сохранить оригинальность подлинника. Кстати, и подборка этих стихотворений взята по совету Евдокии Ростопчиной.
Поначалу Додо (как её звали по-домашнему) не хотела знаться с Лермонтовым, она, кузина Екатерины Сушковой, была наслышана о развитии и окончании её романа с Лермонтовым. Личное знакомство Додо с Лермонтовым произошло только в феврале 1841 г. у Карамзиных, когда Лермонтов приехал с Кавказа в свой последний отпуск.
«И двух дней было довольно, чтобы связать нас дружбой, – писала Ростопчина. – Принадлежа к одному и тому же кругу, мы постоянно встречались и утром и вечером; что нас окончательно сблизило, это мой рассказ об известных мне его юношеских проказах; мы вместе вдоволь над ними посмеялись, и таким образом вдруг сошлись, как будто были знакомы с самого того времени».
Когда в апреле 1841 г. Лермонтов получил предписание в 48 часов покинуть столицу и выехать в Тенгинский полк на Кавказ, друзья устроили ему прощальный вечер у Карамзиных.
«Лермонтову очень не хотелось ехать, – вспоминала Е.П. Ростопчина, – у него были всякого рода дурные предчувствия. Наконец, около конца апреля или начала мая мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути… Мы ужинали втроем, за маленьким столом… Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями… Через два месяца они осуществились, и пистолетный выстрел во второй раз похитил у России драгоценную жизнь, составлявшую национальную гордость. Но что было всего ужаснее, в этот раз удар последовал от дружеской руки».
И все-таки Додо, с чисто женской ловкостью, нашла способ проститься с Лермонтовым — без свидетелей. Воспользовавшись суматохой, возникшей в самый момент отъезда, — «одна из последних пожала ему руку». В это краткое мгновение уединения в толпе Михаил Юрьевич успел отдать поэтессе загодя заготовленный, ответный — стихи за стихи — дар: альбом со стихотворением «Я верю, под одной звездою мы с вами были рождены», а Евдокия Петровна — шепнуть, выдохнуть коротенькую, в одно дыхание французскую фразу: „Je vous attends” («Я вас жду»).
Первое — факт, второе — всего лишь гипотеза, но если отказаться от неё, совершенно необъясним один «загадочный» поступок Лермонтова — его последнее, от 10 мая 1841 года, письмо к Карамзиной, в которое поэт искусно вмонтировал французское стихотворение „L’attente” («Ожидание»).
В русском прозаическом переводе оно звучит так:
«Я жду её в тёмной долине. Вдали, вижу, белеет призрак, который приближается. Но нет! Обманчива надежда! То старая ива качает свой сухой и блестящий ствол. Я наклоняюсь и долго прислушиваюсь: мне кажется, что я слышу звук лёгких шагов по дороге. Нет, не то! Это шелестит лист во мху, колеблемый душистым ветром ночи. Полный горькой тоски, я ложусь в густую траву и засыпаю глубоким сном. Вдруг я вздрагиваю и просыпаюсь: ее голос шептал мне на ухо, ее уста целовали мой лоб».
Самой Ростопчиной принадлежит цикл стихов, посвящённых Лермонтову. В стихотворении «Пустой альбом», написанном в ноябре 1841 г., она создала пронзительный образ трагически погибшего поэта.
Среди листов, и белых и порожних,
Дарёного, заветного альбома
Есть лист один ― один лишь носит он
Следы пера, слова и начертанья
Знакомой мне и дружеской руки…
И дорог мне сей лист красноречивый,
И памятен и свят его залог….
Ряд тех и того, что любил Лермонтов можно продолжать. Он любил бабушку, Тарханы, летние ночи, Пушкина, Байрона и Гёте, любил театр и светские приёмы, моду, Вареньку Лопухину, словом – жизнь. И пил из чаши бытия.
Ах! я любил, когда я был счастлив,
Когда лишь от любви мог слезы лить
Но эту грудь страданьем напоив,
Скажите мне, возможно ли любить?
1830 год. Июля 15-го
И в глубине моих сердечных ран
Жила любовь, богиня юных дней
1831-го июня 11 дня